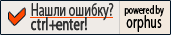
выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Древнее царство Урарту (совместный проект с порталом Новый Геродот).

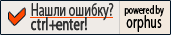 |
выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Древнее царство Урарту (совместный проект с порталом Новый Геродот). |
 |
*) Изучение языка Урарту-Биайны было первою моею научною специализацией языковеда. Древнейшие письменные памятники, найденные на территории Советского Союза, обращали на себя внимание и как исторический источник, освещающий отдаленные периоды жизни нашего Закавказья, и как исключительный по своему характеру языковой материал, поддающийся чтению и в то же время ясно указывающий на обособленное положение исследуемого языка среди соседящих семитических и индоевропейских.
Давно высказывавшаяся мысль о связях урартского языка с кавказскими получила в последние годы подтверждение в трудах А. С. Чикобава и Г. В. Церетели, что еще более усиливает интерес к этому языку, письменные памятники которого датируются IX—VI вв. до начала нашей эры. Если удастся доказать, что урартский (биайнский) язык действительно относится к семье иберийских — кавказских, то значение его еще более усилится, так как в нем придется видеть старейшего, исторически известного, представителя данной языковой семьи. Исследования А. С. Чикобава о древних видо-временных формах глагольного построения (аспекты),1) его же характеристика эргативного строя предложения, устанавливающего взаимоуправление глаголов и имен,2) полностью применимы к анализу грамматического строя языка древней Биайны (Урарту). Краткие, но исчерпывающе ясные указания Г. В. Церетели на грамматические и лексические схождения урартского с иберийскими языками Кавказа подкрепляют эти же выводы.3) Интерес к урартскому языку обострился, тем самым, и у меня, что привело к пересмотру моих прежних работ.
Ряд печатных статей был посвящен мною изданию самих клинописных текстов и анализу их грамматического строя. В целях ближе и глубже подойти к интерпретируемому материалу мною был выдвинут ряд общеязыковедческих вопросов, которые, как полагал я, помогут мне понять особенности исследуемого языка. В один и тот же хронологический период я суммировал свои общеязыковедческие положения в особой монографии, [211] озаглавленной «Новое учение о языке» (1936), а сводный обзор грамматического строя языка урартов-биайнцев опубликовал в работе «Язык ванской клинописи» (1935). Последняя оказалась подчиненною первой, и все дефекты первой, естественным образом, сказались на делаемых выводах по анализу самого языкового материала. На этих выводах я упорно настаивал, считая их единственно правильными. Между тем именно они и оказались грубо ошибочными в самой своей сущности.
Только после выхода в свет классического труда И. В. Сталина по вопросам языкознания4) стали ясными неверные итоги ведшихся мною исследований, шедших всецело по порочному пути так называемого «нового учения» о языке.
Сейчас, пересматривая свои работы в свете высказываний И. В. Сталина, я не мог не убедиться в том, что не только в переводе отдельных текстов мною были допущены ошибки в связи с неверным пониманием значения отдельных слов, но даже в анализе грамматического строя выявился в корне неправильный к нему подход.
Прежнее понимание стадиальных переходов со взрывами, по упорно отстаиваемой Н. Я. Марром схеме, несомненно, отразилось в этих моих урартоведных работах. Исследование шло не по пути выявления внутренних законов, обусловивших развитие данного языка, не по пути, указанному И. В. Сталиным, а попытками найти языку место в стадиальной классификации, строившейся в те годы по схеме общемировой глоттогонии, без достаточного учета специфических свойств каждого изучаемого языка. Поэтому отдельные грамматические построения языка Урарту-Биайны рассматривались мною не в общем комплексе других грамматических форм того же языка, а в сравнительных параллелях с другими языками, даже неродственными, из которых их грамматические формы брались, равным образом, оторванно от всего их же грамматического строя.
Это до известной степени отвлекало меня от конкретного изучения языка, материалы которого в те годы брались для иллюстрации строившихся «новым учением» стадиальных ступеней развития человеческой речи в плане «яфетической теории», тогда слепо мною проводимой. В итоге сам привлекаемый мною материал не оказался в достаточной степени разработанным и даваемое по нему описание грамматического строя не могло быть полным и точным.
Определение грамматического строя языка Биайны нуждается в значительных уточнениях. Те отдельные объяснения действовавших синтаксических и морфологических структур, которые до сих пор давались мною, были непонятными. Грамматический строй устанавливался по наличным письменным памятникам, без достаточного учета тех специфически свойственных биайнскому языку норм, которые, при его явно выступающей эргативной конструкции предложения, все же выделяют его на особое место даже среди других сближаемых по строю речи языков.
Попытки установить ведущие основы грамматической системы биайнского языка делались, но они ограничивались сопоставлениями с языками, отличающимися теми же особенностями построения предложения, использующего глаголы действия и состояния. Противопоставления переходных глаголов непереходным принимались во внимание, но глагольная аффиксация, в ее грамматическом назначении, рассматривалась под углом зрения пассивного восприятия совершаемого действия. Неправильное понимание эргативной конструкции как пассивной отразилось на таком же понимании соответствующих грамматических форм в парадигмах как именного склонения, так и спряжения глагола. Активный (эргативный) падеж рассматривался как косвенный, по аналогии с падежом действующего лица при страдательном залоге глагола, а сам последний, в его [212] субъектно-объектных построениях, устанавливался только по объективному согласованию с предметом направленности действия. Эргативная конструкция предложения оставалась непонятою. Предложение Menuaše ini pile aguni, с его подлежащим в активном падеже (-še) и прямым дополнением в именительном (ini pile), понималось в своем построении как зависимое от глагола aguni, носящего объективный показатель 3-го лица * (-ni). Отсюда, вместо постановки вопроса о взаимоуправлении глаголов и имен, выдвигалось одностороннее согласование глагола с прямым дополнением, при котором подлежащее становилось на позиции косвенного дополнения. Построение урартского глагола воспринималось по аналогии со страдательными формами глаголов индоевропейских языков, то есть языков неродственных и имеющих свои другие закономерности, свои законы внутреннего развития, дающие противопоставление действительного залога страдательному, отсутствующее в языке Урарту-Биайны. Чтобы убедиться в этом, нужно было взять весь грамматический строй изучаемого языка во всех его сложных выражениях грамматической связи между словами предложения. Этого сделано не было. Брались отдельные грамматические формы в поисках аналогий с другими языками. Предложение ^Menuaše ini pile aguni «Менуа этот канал провел» было понято как «пассивно построенное» только потому, что глагол aguni снабжен объектным показателем 3-го лица (-ni). Такая «пассивная» конструкция выявлялась поисками сходных построений вне данных, имеющихся в самих клинописных памятниках Биайны. Структура языка изучалась главным образом путем сравнения с синтаксическими построениями других, более изученных языков, типологически сближающихся с биайнским. Исследование шло не внутрь изучаемого языка, а поисками внешних схождений с представителями самых разнообразных языковых группировок.
Таким образом, действующая система языка устанавливалась, как мы видим, только путем типологических сопоставлений, далеко уходящих за рамки языков, объединяемых в одну родственную семью. Более уточненного понимания биайнского языка таким путем получиться не могло. Подход к языковому материалу был в корне неправильным, что и получило свое выявление во всех моих трудах, посвященных изучению грамматического строя биайнских клинописных текстов. Дефект самой постановки проводимой работы полностью отразился на анализе языка этих письменных памятников.
После ценнейших разъяснений, данных в трудах И. В. Сталина, языковедение получило все основания для выхода из того тупика, в котором оно оказалось вследствие господствовавшего искаженного понимания того, что собою представляет язык. Специалистами данной отрасли знаний не было дано за предшествующие годы точного и исчерпывающего научного определения самого существа языка, основных задач, стоящих перед языкознанием, его отношения к другим областям обществоведения и тех специфических особенностей, без которых наука о языке потеряла бы право на самостоятельное существование и язык перестал бы быть объектом специального изучения. Попытки языковедов уточнить сферу своей деятельности оказались дефектными, антинаучными из-за того, что неправильно использовались высказывания классиков марксизма-ленинизма. В частности, превратное освещение получил такой первостепенной важности раздел языкознания, как изучение исторического хода развития языка, где значительное место занимают происходящие в нем изменения, прослеживаемые как в лексическом составе языка, так и в области, касающейся грамматического строя.
И в той и в другой области изучение биайнского языка не дало тех положительных результатов, которых можно было бы ожидать при надлежащем направлении исследовательской работы. Подход к языку велся без правильного понимания существенной стороны языка как общественного явления. Язык Биайны и история самой Биайны не были в той тесной [213] связи, которая, как указывает И. В. Сталин, необходима для точной постановки научных изысканий.5)
Замена биайнского государства персидскою сатрапиею Армении при Ахменидах еще не получила своего полного исторического освещения. Отношения Биайны к Армении не уточнены. Только в самое последнее время, в 1948 г., появилось исследование этногенеза армян и их начальной истории Гр. Капанцяна «Хайаса — колыбель армян». «Вопреки новым важным, открытиям, меняющим во многом наши представления о роли и значении древнего Ближнего Востока, в том числе и Малой Азии, мы все же, — говорит Гр. Капанцян, — оказываемся недостаточно решительными в деле переоценки существующих предвзято-схематических концепций для лучшего понимания прошлых судеб армянского народа, особенно в начальной фазе его исторического становления, его этногенеза, его истории».
Включение «древней колыбели хаев-армян, Хайаса-Аззи» в вассальную систему хеттского государства и соседство с субаро-урартским Наири выясняются Гр. Капанцяном анализом сохранившихся исторических источников с прослеживанием передвижения хаев в Урарту, начиная с VII в. до н. э. Взаимоотношения Хеттии, Хайаса и Биайны (Урарту) впервые выдвигаются в работах Гр. Капанцяна и нуждаются в дальнейших уточнениях.6) В частности, лишь намечаются, но остаются не до конца выясненными отношения биайнского языка к армянскому. Явно выступающие связи языка Биайны с иберийско-кавказскими и в меньшей степени с индоевропейским языком армян, несмотря на общность их территориальных границ, не имеют еще надлежащего объяснения в своем историческом истолковании, так же как и отношения друг к другу языков народов, игравших в Передней Азии значительную роль в первой половине последнего тысячелетия до начала нашей эры.7) Остается общепризнанным лишь то, что язык биайнской клинописи не родствен ни семитическим, ни индоевропейским.
История образования и последующего развития биайнского языка не затрагивалась исследователями за отсутствием достаточных данных. Поэтому и сама структура языка не получила детального описания. Констатируемые грамматические формы продолжали оставаться невыясненными ни в путях их формирования, следовательно и во взаимоотношениях именной и глагольной суффиксации, ни в выполняемой ими служебной роли в построениях сочетаемых слов предложения. Привлечение материалов иберийских языков Кавказа мною не проводилось в надлежащей степени. Другие же привлекаемые языки — армянский, хеттский и ассирийский — казались столь отличными по своей лексике и грамматике от языка Биайны, что изучение последнего обособилось и грозило замкнуться в рамки своего собственного материала. Исследование языка оставалось, тем самым, крайне ограниченным в своей описательной части, вызывая целый ряд сомнений в установлении морфологических категорий. Изолированный подход к изучаемому языку свелся в основном к сличению синтаксических конструкций, что, при создавшихся условиях, оказалось бесплодным за неимением возможности проследить исторический ход развития грамматического строя и лексического состава самого исследуемого языка.
Для этого наличный материал письменных памятников Биайны оказывался недостаточным. Надлежало обратиться к сравнительному сопоставлению с родственными языками, но вопрос о родственном окружении [214] оставался не выявленным сторонниками «нового учения» о языке. Отрицательное отношение к сравнительно-историческому методу препятствовало постановке работ в этом направлении. Исторический подход к языку заменился поисками стадиальной его характеристики. Прослеживались схождения в отдельных грамматических построениях с иными языками в целях установления места биайнского языка в стадиальной классификации. Здесь сравнительно-исторический метод упорно избегался. За неимением точно проверенных исторических свидетельств, выясняющих положение изучаемого языка среди других ему родственных и неродственных, исследование у меня перешло на путь типологических сопоставлений, привлекаемых с целью выявить шедшие изменения в строе изучаемого языка, история которого продолжала оставаться темною. При таких условиях попытки применения к анализу грамматического строя биайнского языка метода исторического и диалектического материализма не могли дать должных положительных результатов.
И. В. Сталин справедливо обвинил сторонников «нового учения» о языке в неправильном в корне начетническом использовании высказываний классиков марксизма-ленинизма о языке.8) Нами, учениками Н. Я. Марра, брались оторванные от контекста цитаты, будто бы подтверждающие классовый характер языка, являющийся следствием отнесения к последнему всех свойств надстройки. Подходя к языку с таким его определением и с этой же точки зрения оценивая происходящие изменения в ходе его развития, я не мог придти к правильному представлению о наблюдаемом в языке историческом процессе, что и сказалось пагубно в исследованиях, посвященных языку Биайны.
Наиболее ошибочное понимание языка как надстройки над социально-экономическим базисом, последовательно к тому же проводимое, оказалось, конечно, у Н. Я. Марра, отождествившего язык с надстройкою. Именно он, выдвинув самостоятельную «яфетическую теорию», выделил особую яфетическую стадию развития человеческой речи. В состав этой стадии вошел и язык древнего Вана. Этот язык был включен в общую серию яфетических языков Передней Азии и Кавказа с признанием наличия в нем значительной доли проникающих инородных элементов индоевропейской речи.9) Смешение родного и иноземного выдвигалось как характерная особенность данного языка, в отличие от соседящего ассирийского, семитического в своей основе, и хронологически последующего государственного языка армян, в индоевропейском слое которого усматривались яфетические элементы.
Смешению языковых структур придавалось Н. Я. Марром особое значение. Все языки признавались им смешанными в своей основе. Таким же представлялся ему и язык биайнской клинописи. Приписываемое Н.Я. Марром преувеличенное значение скрещению языков отразилось полностью и в тех объяснениях структурных свойств изучаемого языка, которые давались мною. Поэтому и типологические сопоставления получили превалирующее и неправильное применение. Поэтому же мое исследование не могло привести к выяснению тех основ грамматического строя, устойчивость которых обуславливала идущий процесс развития биайнского языка.
Признав язык надстройкою над базисом, Н.Я. Марр сделал все вытекающие отсюда выводы. Утверждалось, что если язык входит в состав надстройки, то он служит соответствующему базису, следовательно, язык в классовом обществе должен носить классовый характер. По этому пути шли и мои исследования. Считая Биайну уже сложившимся рабовладельческим государством, я выискивал в клинописных текстах элементы двух классово различных языков, противопоставляя стереотипно повторяющиеся нормы письменной речи официальных текстов проникающим в них нормам [215] народного языка. Тем самым делалась попытка выделения языка высших слоев рабовладельческого общества и языка широких народных масс. В сохранившихся на протяжении двух столетий одних и тех же грамматических формах я усматривал закостенелый шаблон традиционно повторяемых и потому застывших в своем движении слов с их, равным образом, застывшим грамматическим оформлением и не видел подлинной причины их столь длительного существования, обусловленной устойчивостью грамматического строя. Наоборот, я считал, что установившийся трафарет царских письмен, получивших характер культовой речи, отошел от норм разговорной речи настолько, что он перестал быть понятным всем слоям населения и потому нуждался в переводе с одного языка на другой.
Такой перевод, следовательно наличие двух языков, я усматривал в имеющихся в надписи Мхер-Капуси разночтениях, выразившихся в повторном изложении одного ж того же текста с диалектальными вариациями. Анализируя особенности данного памятника, я, вместо сопоставления территориального диалекта с литературным письменным языком, противопоставлял один другому как два различных классовых языка. Текст сакрального назначения с перечнем богов и указанием числа приносимых им жертв рассматривался мною как своего рода законодательный акт, содержание которого должно быть доступно всему населению. Поэтому, думал я, потребовалось переложение такого акта, написанного строгим стилем царского повествования, на живой общедоступный язык. Я не обратил внимания на то, что и в том и в другом текстах использованы те же самые слова при некоторых незначительных отступлениях в их грамматическом оформлении, то есть выступают одни и те же нормы общенародного языка.10)
На анализе данного памятника я только сейчас остановился более подробно, причем детальный разбор того же самого текста не дал никаких оснований для противопоставления двух различных языков. Оказалось, что я не видел в них устойчивости грамматического строя одного и того же общенародного языка и связывал язык с историею говорящего на нем народа как надстройку с базисом. История развития языка представлялась тем самым в ложном виде.
Изменения в языковом строе не подлежали сомнению, но процесс идущих качественных смен был понят неверно. Два языка древнего Вана противопоставлялись мною — один, как когда-то живой, но затем вышедший из общего употребления и законсервированный стилем царских повествований, а другой — как живой и развивающийся. Язык воспринимался как перешедший из одной стадии в другую с резким между ними разрывом, приведшим к необходимости прибегать к переводу. Такой вывод был заранее навязан схемою стадиальных переходов, в их обычном понимании «нового учения» о языке, что привело в итоге к отвлечению от самого материала, который в обеих частях одной и той же надписи давал одинаково понятный текст. Выступающие в нем различия, такие, как постановка глагола того же корня в одном случае в объективном спряжении ter-u-ni «установил(и) — его», а в другом — в субъективном ter-tu «установили — они», при тождестве остальных грамматических форм и самого словарного состава, вовсе не устраняли свободного чтения обоих текстов, начертанных будто бы на двух различных языках.
Что надстройка изменяется, в этом сомнений у меня не возникало. Но все же надлежало выяснить, соответствует ли язык основным свойствам надстройки, и не выделяется ли он своими, ему специально присущими особенностями. Такой вопрос, конечно, не мог быть разрешен по одним только материалам биайнской клинописи. Он разбирался в общей проблематике [216] языкознания и, неправильно в ней установленный, оказался примененным к более узкой сфере анализа клинописных памятников одного из народов Передней Азии. Непонимание специфических свойств, присущих каждому языку, сказалось в самой постановке исследовательского труда, которая привела к тому, что в последней сводной моей работе по языку Вана оказалась помещенною обширная глава, озаглавленная «структурное определение обоих халдских языков».11)
В этой главе мною противопоставлялись два будто бы различных языка, в доказательство чего брались из надписи Мхер-Капуси следующие фразы совершенно одинакового содержания: ^Haldie eurie ^Išpuinipe ^Sardurie-ḫiniše ^Menuaše^ Išpuiniḫiniše inili BÂBU zaduali teruni ardiše (строки 1-2) «Халду владыке Ишпуин сын Сардура (и) Менуа сын Ишпуина эти врата воздвигали, установили жертву». Такой текст был признан мною за текст речи верхушки биайнского рабовладельческого общества и противопоставлялся другому, как представителю народного языка. Таким образом, выделялись мною два различных языка. Между тем достаточно подойти к этим текстам без предвзятого взгляда о классово-различных языках, чтобы убедиться, что отличия их минимальны. Ср. второй текст: ^Haldie eurie ^Išpuiniše ^Sardurieḫinise ^Menuaše ^Išpuinieḫiniše inili BÂBÂNI zatuli te(i)rtu ardiše (строки 32-34).
Падежное оформление собственных имен в обоих текстах одинаково. Правда, идеограмма BÂBU «ворота» в одном случае стоит в единственном числе, а в другом во множественном, но определение при нем (ini-li) имеет в обоих примерах один и тот же суффикс множественного числа (-li). Такие построения можно встретить в любых царских надписях. Различие, и то только в грамматической форме, сводится к согласованию глаголов teruni, zaduali с объектом, a te(i)rtu с субъектом, который в одинаковой падежной форме стоит в обоих сравниваемых предложениях.
Грамматическая структура «обоих халдских языков» (двух языков древнего Вана) разбиралась мною на протяжении ста страниц, причем в самом изложении соответствующей главы ясно прослеживались общие для них нормы морфологии и синтаксиса. Эргативный строй предложения оказывается общим, одинаковы парадигмы склонения имен, что же касается глагола, то и он в «обоих языках» выделяется своим субъектно-объектным спряжением. Словарного состава я не касался, так как общность его фонда выступает с полною очевидностью. Одного этого уже было достаточно для того, чтобы дать указанной главе совершенно иное обозначение, а именно «грамматический строй общенародного языка клинообразных письменных памятников Биайны». Все же данный мною раньше заголовок оказался вовсе не случайным. Он дан в связи с неправильным пониманием исторического хода развития языка.
Н. Я. Марр и я, не входя в детальное обсуждение того, чем является язык, присвоили ему совершенно чуждые свойства. Считая язык надстройкою, Н. Я. Марр, а вслед за ним и я, в своих халдоведных работах, исходили из того, что экономический строй общества на каждом этапе его развития коренным образом меняет структуру языка. Взрыв базиса влечет изменив надстройки; следовательно, заключали мы, коренным образом изменяется и строй языка. Отсюда шло наше признание революционного хода развития языка и основанное на нем построение «теории стадиальных переходов», обуславливающих продвижение языка с одного качества на другое. Под этим углом зрения рассматривались мною качественные в языке переходы, что и получило свое явное отражение в понимании строя биайнской речи.
Разбиваемый на две части, этот язык свидетельствовал, как мне тогда представлялось, о пережитом им взрыве. Не касаясь уже того, что в самом материале не удавалось установить, что именно претерпело в нем столь [217] решительные изменения, следует обратить внимание еще и на то, что социальный предпосылок для таких смен не имелось. Биайнская клинопись на протяжений всех двух с половиною сотен лет ее существования использовалась народом, государственный строй которого определялся одними и теми же экономическими отношениями. Нет никаких оснований утверждать, что рабовладельческое общество Биайны за этот период (IX—VI вв. до н. э.) сменилось феодальным. Следовательно, базис оставался за все это время без существенной перестройки. Значит и язык, даже понимаемый как надстройка, не давал повода для усматривания в нем моментов качественных смен по схеме стадиальных переходов. Еще менее объяснимым становится получившееся своеобразное сочетание взрывов в языке Биайны с классовою его интерпретацией выделением языка господствующих слоев населения, которому тем самым приурочивалось состояние языка до предполагаемого взрыва его структуры.
Переход языка с одной ступени на другую приурочивался мною ко всему языковому строю в его целом. Ступенчатые переходы признавались «новым учением» о языке общею для всех языков закономерностью, с одинаковою для них последовательностью смен одних и тех же стадий, устанавливаемых по морфологическим и синтаксическим признакам. Такие стадиальные переходы прослеживались мною в сличаемых памятниках Биайны за все время существования этого государства. Своеобразие строя речи, не семитической и не индоевропейской, конечно, отмечалось и мною. Я не отрицал того, что каждый язык имеет присущую ему грамматическую структуру, но вследствие ошибочности принципиальных установок понимание историзма грамматического строя оказалось у меня явно искаженным. Частичные изменения наличных в нем грамматических форм, накапливаясь, вели, как я тогда утверждал, к взрыву всего языкового строя. Получался новый язык, сменяющий прежнее свое стадиальное состояние иным, построенным на видоизменившихся основах. Между тем одного только приведенного выше разбора содержащихся в надписи Мхер-Капуси разночтений было вполне достаточно для того, чтобы опровергнуть не только наличие классово обособленных языков, но и мнимую взрывчатость исторического хода развития языка. Углубленный и правильно поставленный анализ подлинного материала должен был привести к признанию устойчивости грамматического строя на всём протяжении существования биайнской клинописи.
В исследовательской над ней работе сказался еще и другой, явно выступающий дефект, выразившийся в том, что упомянутая выше стадиальная схема строилась на типологических сопоставлениях различных конструкций, основанных на разновидностях грамматического строя, его морфологи и синтаксиса. Тем самым и синтаксис и морфология, эти две части грамматики, являющейся наиболее устойчивою стороною языка, оказались подверженными в моем истолковании тем же стадиальным переходам, то есть резко выраженным качественным изменениям, дающим новое образование в жизни одного и того же языка. В связи с этим при распределении языков по соответствующим группам исключительное внимание обратилось у меня не на генеалогическую классификацию, а на морфологическую и затем на синтаксическую.
Старая схема морфологической классификации, известная науке еще со времен Шлегеля, была приурочена «новым учением» о языке к стадиальной классификации, которая отождествлялась с социально-экономическими формациями, как универсальная, общая для всех языков мира в историческом ходе развития единого глоттогонического процесса. Разновидности морфологической классификации обращались, таким образом, в последовательную серию ступенчатых переходов с одного морфологического строя на другой, что вполне соответствовало взглядам Н. Я. Марра на революционное содержание происходящих в языке качественных изменений.
При господстве типологических сопоставлений, устранявших всякие [218] другие, внимание обращалось на форму слова и на построение предложения по сходству приемов грамматического оформления. В этих целях морфологические и синтаксические системы различных языков сопоставлялись одни с другими. Выискивались схождения в формальной стороне грамматических построений вне постановки вопроса об их причинах, об их историческом прошлом, обусловленном теми внутренними законами, которые, будучи различными в разных языках, приводили в ходе исторического процесса к определенным схождениям и расхождениям. Поэтому и биайнский язык исследовался мною не по тем внутренним законам, которые обусловили процесс его развития, а по линии грамматической типологии, то есть сличением сходных грамматических построений в языках, хотя бы и вовсе не родственных. В связи с этим морфологической классификации и здесь придавалось превалирующее перед другими значение, что и обусловило неправильный подход к прослеживанию идущих в языке изменений. Исторический процесс развития биайнского языка оставался из-за этого невыясненным, и пути к его выявлению оказались закрытыми.
Идущие в языке изменения не удается установить сопоставлением различных типов грамматических построений в мировом масштабе «общеязыковой глоттогонии». Исторический ход развития языка устанавливается сравнительно-историческим анализом путем сравнения грамматических форм различных периодов развития не всех вообще языков, а отдельного конкретно взятого языка, и путем сравнения его строя со строем речи других родственных языков, то есть в пределах одной языковой семьи, что, в свою очередь, органически связывается не с морфологическою, а с генеалогическою классификацией) языков. И если биайнская клинопись на протяжении двух с половиною столетий не дала достаточных данных для суждения об идущем процессе совершенствования языка, то за надлежащим материалом следовало обратиться в первую очередь к родственным языкам, опираясь на генеалогическую классификацию и на сравнительно-исторический метод исследования.
То, что клинописные тексты Биайны, отдельно взятые, были недостаточны для более полной характеристики их грамматического строя, это было ясно само по себе. Была также ясна необходимость привлечения сравнительного материала других языков. Неизбежные в этом случае параллели привлекались, но процесс собирания материала шел по тому же, отмеченному выше, неверному пути. Картвельские языки и языки Дагестана имелись в виду, но они не ставились в первую очередь, как родственные языки, объединяемые единством языковой основы. Они включались в общую серию наравне с чукотскими и американскими индейскими по оторванно взятым типологическим схождениям, а не по родственным связям языковой семьи.
Родство языков отрицалось «новым учением» о языке; тем самым оставлялась в стороне и генеалогическая классификация. Отказ от нее влек за собою отказ от сравнительно-исторического подхода к изучаемым языковым явлениям и перенесение основного упора на морфологическую и синтаксическую типологию, с особым у меня вниманием именно на последнюю. Выделение синтаксиса на первый план оказалось обусловлено наличием в биайнском языке строго выдержанной эргативной конструкции предложения. На нее и было обращено преимущественное внимание. Для ее уточнения брались разные языки с теми же характерными особенностями построения предложения. Морфология, при таких условиях, интереса к себе не возбуждала. Синтаксис занял главенствующее место.
В основу работ марровской школы ложилась типологическая классификация, опирающаяся на морфологические и синтаксические конструкции, на различные системы оформления слова и построения предложения. По ним языки распределялись на соответствующие группировки. Получилась, таким образом, морфологическая и синтаксическая классификация. У Н. Я. Марра в основу ложилась первая из них, а у меня, с отказом от [219] классификации по морфологическим признакам, осталась одна синтаксическая. Мы сохранили лишь итоги генеалогической классификации, то есть распределение языков по группам — индоевропейская, семитическая, тюркская и т. д., сюда же включилась новая, уже по Н. Я. Марру, яфетическая группа, в основу которой ложились иберийско-кавказские языки и ряд других, образующих «яфетическую стадию».12) Термин «семья» заменен словом «система». Группировка языков по «системам» подчинилась стадиальной периодизации. Одна стадия сменялась другою в последовательном порядке. По Н. Я. Марру, такие ступенчатые переходы строились по морфологическим показателям: аморфный строй — агглютинативный — флективный, с выделением универсальной «яфетической стадии», предшествующей всем остальным стадиям-системам. У меня периодизация проводилась по синтаксическим конструкциям: аморфная — поссессивная — эргативная — номинативная. Биайнский язык, по строю его предложения, отнесен мною к эргативной стадии. Поэтому к сравнению привлекались языки не по признаку родственной семьи (генеалогическая классификация), а по особенностям эргативного строя (типологическая — синтаксическая классификация). Поэтому и оказались в одной группе иберийско-кавказские, чукотские и индейские Северной Америки.
Для объяснения особенностей биайнского предложения ieše ini pile agubi «я этот канал провел» привлекались к сравнению даргинское галга хабушира нуни «я срубил дерево», сахаптинское (немепу) inim wäs sikäm «я имею лошадь». Пример из даргинского языка взят не потому, что дагестанские языки относятся к иберийско-кавказским, следовательно к близко родственным Биайне, а потому, что в нем прямое дополнение стоит в именительном падеже, так же как и в биайнском. Поэтому к сравнению привлечен и североамериканский индейский язык немепу, в котором, равным образом, в именительном падеже стоит прямое дополнение (sikam «лошадь»), а подлежащее поставлено в притяжательной форме (ini-m). Но такие сравнения указывают лишь на то, что эргативный строй предложения свойствен не одному только языку Урарту-Биайны.13)
Падежные/формы в каждом из этих языков различны, глагол в каждом из них строится по ему присущим нормам. Такие сравнения ведут совсем в другую сторону. Они интересны для анализа разновидностей эргативного предложения, для выяснения разновидностей синтаксических структур,14) так же как морфологическая классификация дает материал для сличения разновидностей оформления слова. Но упор только на синтаксис, сравнение с языками чукотским, Северной Америки и т. д. уводят на Дальний Восток, вместо того, чтобы сосредоточить внимание на родственные связи изучаемого языка, на поиски языка-основы, объединяющего родственную семью языков. Между тем именно последнее и необходимо для более углубленного изучения строя биайнского языка.
Такой односторонний, синтаксический подход получил свое отражение в анализе грамматического строя языка биайнской клинописи. Этот, взятый слишком узко, подход, ограниченный сопоставлением эргативных построений по различным языковым системам, свелся к разбору деталей строя предложения без достаточного внимания на грамматические формы используемых слов. Я вовсе устранял в своих более старых работах особый раздел грамматики — морфологию, относя словообразовательную морфологию к лексике, а словоизменительную к синтаксису. Во избежание столь резкого деления морфем, которые в своих деривационных и реляционных значениях все же сближаются, иногда даже повторяясь в своих грамматических формах, я включил саму лексику в состав [220] грамматики, основываясь также на том, что семантика слова может оказывать влияние на построение предложения. Это я видел, между прочим, и в том, что переходные глаголы в эргативном строе предложения, следовательно и в биайнском языке, согласуются с подлежащим, стоящим в особом активном (эргативном) падеже. При таком понимании структуры языка его грамматика разбивалась не на морфологию и синтаксис, а на синтаксис и лексику.15)
Даже в самых последних работах, в тех, в которых морфология как часть грамматики признавалась, все же синтаксическая типология главенствовала настолько, что морфология не оказалась восстановленною в полном своем значении. Я и тут направлял свой исследовательский труд в точном соответствии с марровским утверждением: «морфология на службе синтаксиса». В 40-х годах, в своей работе «Члены предложения и части речи» (1945) я уже признавал за морфологиею право на выделение, но в явно подчиненном положении. Словообразовательная морфология, с выделением лексики на особую позицию, оставлялась мною за нею, и тем самым раздел морфологии вновь замкнулся в своей словоизменительной части. Благодаря этому морфология продолжала оставаться на службе синтаксиса настолько, что вопроса о возможности влияния морфологической структуры на синтаксические построения вовсе даже и не ставилось.
Естественно, что при таком понимании исторического процесса все у меня сводилось, исключительно к синтаксису. Этим объясняется перенос стадиальной классификации с морфологии на синтаксис и неправильное понимание анализируемого материала целого ряда привлекаемых к сравнению языков, распределяемых по ступеням развития уже не морфологических категорий, а различных систем построения предложений в их последовательных переходах с одного типа на другой по той же схеме единства глоттогонического процесса, выступающего в революционных перестройках языковых структур.
Здесь выявилась еще и другая существенного рода ошибка, заключающаяся в недооценке значения грамматических форм. «Основы грамматического строя, — говорит И. В. Сталин, — сохраняются в течение очень долгого времени, так как они, как показывает история, могут с успехом обслуживать общество в течение ряда эпох».16) Исторически развивающиеся синтаксические и морфологические категории, совершенствуясь и уточняясь, изменяются медленно и являются в языке, по сравнению со словарным составом, наиболее устойчивыми. Это положение отрицалось схемою стадиального развития, устанавливавшею резкие переходы с одного строя на другой. «Если теория стадиальности действительно признает внезапные взрывы в истории развития языка, то тем хуже для нее. Марксизм не признает внезапных взрывов в развитии языка», — так указывал И. В. Сталин.17)
Наиболее устойчивым в языке оказывается грамматика в ее обеих частях (морфология и синтаксис), наименее проницаемых, то есть наименее поддающихся изменениям под влиянием заимствуемых форм, причем из указанных двух разделов грамматики почти полною непроницаемостью отличается морфология, то есть именно тот отдел грамматики, на который обращалось мною наименьшее внимание.
Конечно, в данном случае речь идет о проницаемости отдельных грамматических категорий; устойчивость же основ грамматического строя, в том числе и синтаксического, тем самым вовсе не отрицается. Основы синтаксического строя продолжают развиваться по внутренним законам развития языка, и всякого рода заимствования находятся в [221] соответствии с ними и подчиняются им, не взламывая грамматический строй взрывом его, а содействуя его совершенствованию.
Иное понимание было у меня, отстаивавшего образование новых грамматических норм в итоге скрещивания языков, в результате развития письменности и т, д. Я выискивал в связи с этим ломку всего грамматического строя, образование нового языка в путях скрещения, а вовсе не усовершенствование уже существующего по единым нормам общенародной речи. На той же позиции стоял и Н. Я. Марр. Он отмечал «состояние разрушения, в каком дошли до нас яфетические языки клинописных памятников, в частности халдский». В этом он видел «факт чрезвычайно разлагающего воздействия иноприродной речи». Образование языка Ванской клинописи рассматривалось им в связи с «явлением гибридизации или смешения яфетидов с ариоевропейцами, не только с армянами, но в пределах окраины Кавказа и с греками, в обоих случаях, — собственно с ариоевропейским племенем, по скрещении с другими племенами, давшими новый этнический вид, в одном случае — армянский, в другом — греческий. Как бы то ни было, вопрос не в случайном столкновении яфетидов с ариоевропейцами, а в длительном влиянии, которое могло бы объяснить, помимо разрушения яфетических норм халдского языка, появление в нем слов, не только объяснимых лишь на ариоевропейской лингвистической почве, но так соблазнительно созвучных с армянскими эквивалентами или прототипами ариоевропейского слоя армянской речи».18)
Не частичные изменения, а ломка всей языковой структуры усматривается Н. Я. Марром в только что процитированных строках. В них говорится не о проницаемости тех или иных языковых категорий в итоге длительного влияния одного языка на другой, а о коренной перестройке, притом не в одном только словарном составе, а во всем строе халдской (биайнской) речи, пережившей «разрушение яфетических норм». Об устойчивости грамматического строя, при таких условиях, не могло быть речи. К этому уже я присоединил дальнейший распад того же языка на два классово обособившихся языка.
Ложно поставленная проблема скрещения языков привела к отождествлению скрещения с заимствованием. Последнее, воспринимаемое как внедрение инородного элемента, рассматривалось в качестве того взрывчатого состава, накопление которого вело также к переходу на другую стадию. Между тем заимствованные элементы вовсе не взрывают грамматического строя, а подчиняются его действующим нормам. Таких примеров в самом языке Биайны усмотреть мне было крайне трудно ввиду изолированности самого языка и ограниченности используемых им грамматических форм, лишенных каких-либо следов их изменений на протяжении исследуемого периода жизни данного языка. Я обратился к другим языкам, в которых введение письменности оказывается новым явлением, поддающимся сейчас наблюдению, и в развитии которых сказывается влияние русского языка. Таковы, в частности, языки народов нашего Севера. В них я пытался найти искомые мною образцы языковой перестройки. Поиски мои остались тщетными, так как подход к исследуемому материалу, а потому и делаемые по нему выводы, были неправильными. Существенные стороны языкового строя оказались непонятыми.
Исследователи северных языков указывают на ряд случаев заимствования национальными языками не только знаменательных слов, но и слов служебного значения. В частности, развитие сложного предложения привело в ительменском языке к заимствованию из русского ряда соединительных союзов: и, дай (да и), толко, дотеперя; в кетском: и, да. Ряд союзов в юитском (эскимосском) берется из чукотского языка и т. д.19) Развивающийся [222] строй языка использует в данном случае также и заимствование, чему идет навстречу двуязычие населения.
Эти примеры, при правильной постановке их анализа, должны были опровергнуть делаемые мною по ним выводы о коренной перестройке всей языковой системы. Не говоря уже о том, что здесь выступает не скрещивание языков, а заимствование одним языком элементов другого, этими примерами подтверждается устойчивость грамматической системы, а вовсе не ее коренная ломка, на чем я все настаивал, не замечая того, что язык совершенствуется по установившимся внутренним законам его развития. Доказательством этому могут служить именно те примеры из северных языков, на которых я останавливался. То, что отмечают исследователи названных языков связано с развитием сложного предложения сочинением и подчинением, чему в значительной степени содействует рост письменной речи. Развивающееся новое средство общения вносит некоторые изменения, пополняя в первую очередь словарный состав. Заимствуются также служебные слова и частицы, потребность в которых вызвана новыми правилами сочетания слов и предложений, то есть синтаксическими в своей основе. Эти новые правила пополняют уже существующие, образуя вместе с ними одно целое той же грамматической системы.
Словарный состав более изменчив, грамматический строй более устойчив. Новое словотворчество подчиняется установившимся грамматическим правилам. Все же и грамматика уточняется, вырабатывая новые правила, касающиеся в отмеченных выше примерах сочинения и подчинения. Такие частичные изменения имеют место, прежде всего, в синтаксических построениях, тогда как действующие в языке нормы морфологии сохраняют свою силу, подчиняя себе новые языковые образования, в том числе и заимствования. Поэтому внедрение письменности у бесписьменных до того народов вовсе не заменяет один строй языка другим, а содействует продвижению языка по пути уточнения существующих в нем грамматических правил. Этого я не понял. Идущий процесс, связанный с введением письма, рассматривался мною как переход на новую структуру и морфологии и синтаксиса, качественно изменяемых. Такого взгляда придерживался я во всех своих халдоведных работах, включая монографию «Язык ванской клинописи» (1935), в которой противопоставление двух различных языков, письменного и живого, выступает в полной силе.
Я не учитывал устойчивости грамматического строя, следовательно обеих его составных частей, так как и синтаксис, при его большей проницаемости, чем морфология, все же совершенствуется по сложившимся внутренним законам развития данного языка, значит не ломается взрывчатыми переходами, а развивает заложенные в нем основы действующей грамматической конструкции.
По сравнению с лексикою весь грамматический строй (морфология и синтаксис) наиболее устойчив, но все же в нем наименее проницаема морфология. Если она наименее проницаема, то есть почти не поддается влиянию извне, то наблюдаемые в ней изменения в значительной степени обусловлены собственным ходом развития грамматического строя по заложенным в нем внутренним законам. Таким образом, прослеживать качественные изменения, идущие внутри языка в процессе использования созданных и развиваемых собственных норм общенародного языка, нужно в первую очередь не в синтаксисе, как это продолжал делать я, а в наименее проницаемой морфологии. Это требование вполне применимо к разбору грамматического строя биайнских надписей, для которых, судя хотя бы по формуле проклятия, по царской титулатуре, по самой системе изложения летописного повествования и т. д., примером служили ассирийские анналы. Подражение им должно было сказаться прежде всего в подстроении фраз, а не в морфологическом оформлении используемых слов, которому подчинялись полностью даже заимствованные слова. Между тем именно морфология и оказалась у меня на заднем плане. [223]
Этот основной дефект и сказался в моих халдоведных исследованиях. Широко развернувшаяся в последние годы разработка вопросов теории и истории языка на базе марксистско-ленинской методологии убедила меня в необходимости направить всю исследовательскую работу на новый путь.
Я понял, что нужно по материалам изучаемого языка выявить присущие ему внутренние законы развития, обусловившие устойчивость грамматического строя, изменяемого не взрывами, а постепенными длительными переходами по пути совершенствования и уточнения действующего грамматического строя, переходами на новое качество отдельных грамматических форм. Выявление внутренних законов развития, свойственных биайнскому языку, вскрывает его структуру совсем не в том виде, в каком она выступала в моих исследованиях, строившихся по «новому учению» о языке.
Структура языка представляет собою единое целое, части которого находятся во взаимной связи. В биайнском языке имена и глаголы в своем оформлении тесно связаны. Глагол управляет падежом подлежащего и прямого дополнения, получая сам их же показатели. При переходном глаголе подлежащее должно стоять в особом активном (эргативном) падеже, завися от глагола, но последний согласуется с подлежащим и прямым дополнением или с одним из них. Эти свойственные урартскому (биайнскому) языку особенности роднят его с иберийскими языками Кавказа, выявляющими те же закономерности.
В биайнском языке ясно различаются грамматические формы переходных и непереходных глаголов. Выделяются глаголы с показателем непереходности действия -а-, снабжаемые показателями лиц: 1-ro-di «я», 3-ro-di «он» и -li «они», в отличие от переходных глаголов с их показателем -u- и личными окончаниями в 1-м лице -li «я-его» и в 3-м — ni «его»,-(а) — li «их», в обоих случаях, обычно, при единственном числе субъекта, —(i)tu «они», с возможным сочетанием субъектных и объектных показателей -itu-ni, itu-li «они-его», «они-их». При единственном числе действующего лица переходные глаголы получают в 3-м лице одни только объектные показатели, согласуясь в числе с прямым дополнением, стоящим в именительном падеже. Предложение ^Menuaše ini BÂBU šidištuni сопоставляется с предложением ^Menuaše inili BÂBU MEŠ šidištruali, где действующее лицо остается в одном и том же падеже на -še (Menuaše), а глагол изменяет свою грамматическую форму в зависимости от числа предмета действия: ini BÂBU «эти врата» (в единств. числе) и глагол šidiš-tu-ni «воздвиг» в том же числе; ini-li BÂBU MEŠ «эти врата» (во множ. числе) и глагол šidištu-ali, в этом же числе, ср. ^Menuaše ^Išpuiniḫmise ini BITU šidištu-ni Ḫaldinili BÂBU-li šidištu-ali ini ÊGAL badusie šidištu-ni. Имя действующего лица Menuaše Išpuiniḫiniše остается без изменения, тогда как переходный глагол šidištu меняет грамматическую форму в зависимости от числа объекта (-ni в единств, числе и -ali в множественном): «Менуа сын Ишпуина это сооружение воздвиг (глагол в единств. числе), Халдовы врата воздвиг (глагол во множ. числе), эту крепость разрушенную (?) вновь воздвиг (глагол в единств, числе)».
Эти примеры в 3-м лице были использованы для подтверждения пассивного характера эргативной конструкции. По таким односторонне подобранным примерам сделан вывод о соответствии биайнского эргативного предложения страдательному обороту номинативного: «Менуей это сооружение воздвигнуто, халдовы ворота воздвигнуты...» Между тем в других лицах и числах выступает согласование глагола с субъектом, а иногда, кроме того, и с объектом. В биайнском языке имеются формы с субъектно-объектными окончаниями глагола на -(i) tu-li «они — их», -(i) tu-ni «они — его» и даже с одним субъектным показателем -(i) tu «они». Все эти формы согласуются с тем же подлежащим на -še (активный падеж), [224] как и в приведенных выше примерах, и тем самым противоречат восприятию глагольного построения, как пассивного, ср. ebani ḫa-itu ÂLUMEŠ ŠÂRAPU ḫarḫarš-itu-li «страну захватили — они города сожгли разрушили — они — их» (Сард. лет В, стк. 31-32), ср. с подлежащими, стоящими в активном падеже на -se: ^Išpuiniše ^SARdurieḫinise ^Menuaše Išpuiniḫiniše ini puluse ku-itu-ni «Ишпуин сын Сардура (и) Менуа сын Ишпуина эту стэлу-надпись начертили — они — ее», ср. также ^Išpuinise ^SARdurieḫinise ^Menuaše ^Išpuiniḫiniše ini puluse ku-itu, где тот же глагол, имея только субъектный показатель («начертали — они»), согласован с подлежащими, стоящими в том же самом активном падеже (-še). Никакого пассивного оборота тут нет.
Точно противопоставляются подлежащие при переходном глаголе в падеже на -še (-iš) и при непереходном в именительном (неоформленном), иногда суффиксируемом в собственных именах и географических названиях окончаниме -ni, cp ^Išpuiniše SARdurieḫiniše Menuaše Išpuiniḫiniše Haldinili BÌTU šidištu-ali». «Ишпуин сын Сардура (и) Менуа сын Ишпуина халдово сооружение воздвигли». Подлежащие стоят в активном (эргативном) падеже на -še, прямое дополнение (BIÎU) в именительном, глагол — переходный (šidištu-ali); ÂLU Ardinidi nunali ^Išpuinini ^SARdurieḫe... ^Menua ^Išpuinieḫe «в город Ардини (Ardini-di) направились Ишпуин сын Сардура... Менуа сын Ишпуина». Подлежащие стоят в именительном падеже, глагол — непереходный (nuna-li). Винительного падежа нет. Переходный глагол, «безакузативен». Формы страдательного залога не прослеживаются. Имеется переходный глагол, но нет действительного залога. Номинативная конструкция переходного глагола отсутствует, вместо нее выступает эргативный строй предложения с переходным глаголом, который «нельзя считать, — как утверждает А. С. Чикобава, — глаголом действительного залога, и в этом смысле переходный глагол не является «активным»; но, продолжает А. С. Чикобава, «неактивное» еще не значит «пассивное».20) И если «сущность переходного глагола в эргативной конструкции не может быть раскрыта без учета истории образования залогов»,21) то одни только материалы биайнской клинописи, конечно, оказываются для этого недостаточными. Ясно выступающая в биайнском языке эргативная конструкция требует прежде всего уточнения в понимании самой этой конструкции, чему ценнейшие данные представляют материалы иберийских — кавказских языков.
В 1939 г. Г. В. Церетели привел явные параллели между действующими нормами грамматических построений картвельских языков и биайнского (урартского). Он указал на то, что употребление падежа подлежащего никакого отношения к пассивной конструкции в этих языках не имеет, что «некоторые явления из области спряжения глагола свидетельствуют действительно о поразительном сходстве урартского с картвельскими» (речь идет о субъектной и объектной аффиксации глагола, об активном и именительном падежах). Автор отмечает также, что «почти вся система урартского склонения имен, выявляющего агглютинативный характер, обнаруживает исключительную близость к картвельским языкам». Он находит близкие соответствия в образовании множественного числа, в образованиях местоимений и прилагательных, отчасти в глагольной суффиксации. В итоге он признает, что «язык ванских клинообразных надписей находится в некотором языковом союзе с картвельскими языками». Но Г. В. Церетели не поставил себе задачи специального рассмотрения этого вопроса во всех его деталях и ограничился «лишь опубликованием [225] урартских памятников Музея «Грузии».22) Все же и в этом виде работа Г. В. Церетели служит ясным доказательством того, что строй биайнской речи не удается выявить без учета структурных норм и лексического состава картвельских и горских языков Кавказа.
* * *
Правильное освещение языка древнейших письменных памятников, найденных на территории Советского Союза, дает богатый материал и для историка и для языковеда. Углубленное исследование языков в неразрывной связи с историей народов представит нам возможность и эти «мертвые» языки приобщить к их живому окружению. Только исследуя устойчивость грамматического строя и исторически установившиеся внутренние законы развития языка, можно с уверенностью вывести язык Урарту-Биайны из искусственно созданной его изолюции*) и установить его родственные связи с языками Кавказа и связи последних с рядом древних языков переднеазиатского культурного мира. [226]
Известия АН СССР, отделение литературы и языка. 1953, том XII, вып. 3 (май — июнь).
[211] - конец страницы.
*) Публикуя статью академика И. И. Мещанинова, представляющую собой опыт пересмотра основных выводов автора по изучению языка клинописных памятников Урарту-Биайны, редакция высказывает пожелание, чтобы следующее свое выступление в печати автор посвятил разбору своих методологических ошибок в области общей грамматики,— ошибок, получивших столь яркое отражение в его трудах «Члены предложения и части речи» (1945) и «Глагол» (1949). — Редакция.
1) А. С. Чикобава, Основные тенденции развития синтаксического механизма простого предложения в грузинском языке, II, Сообщения АН Груз. ССР, т. II, № 6, 1941; его же, Пермансив и место, занимаемое им в истории спряжения грузинского глагола, там же, т. IV, № 1, 1943 и др.
2) А. С. Чикобава, Несколько замечаний об эргативной конструкции, в сборнике «Эргативная конструкция предложения», 1950.
3) Г. В. Церетели, Урартские памятники Музея Грузии, 1939.
4) И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1952.
5) См. И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 22.
6) Гр. Капанцян, Хайаса — колыбель армян, 1948, стр. 7, 63, 83, 124, 154, 258.
7) Ср. Гр. Капанцян, Общие элементы между урартским и хеттским языками, 1936, стр. 3-5, 7, 58, 67.
8) См. И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 33.
9) «Археологическая экспедиция 1916 года в Ван», 1922, стр. 61-62.
10) «Два языка древнего Вана», сборник статей, посвященных акад. С. Ф. Ольденбургу, изд. АН СССР, 1934, стр. 359-366; «Язык ванской клинописи», II, 1935, стр. 32-34, 183-268.
11) «Язык ванской клинописи», II, 1935, стр. 182-279.
12) И. И. Мещанинов, Учение Н. Я. Марра о стадиальности, «Изв. АН СССР, Отд. лит-ры и языка», 1947, стр. 35-41.
13) См. мое «Новое учение о языке», стр. 324 сл.
14) См. сборник «Эргативная конструкция предложения», 1950.
15) См. «Новое учение о языке», 1936, где на стр. 292-342 дается схема стадиальной периодизации, и «Общее языкознание», 1940, стр. 35-42.
16) И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 25-26.
17) Там же, стр. 27.
18) Н. Я. Mapp, Надписи Сардура Второго из раскопок ниши на Ванской скале, Археологическая экспедиция 1916 г. в Ван, 1922, стр. 61-62.
19) «Язык и письменность народов Севера», III, 1934, стр. 102, 126, 237.
20) А. С. Чикобава, Несколько замечаний об эргативной конструкции, 1950, стр. 15.
21) Там же.
22) Г. В. Церетели, Урартские памятники Музея Грузии, стр. 15-19.
*) так. HF.
Написать нам: halgar@xlegio.ru