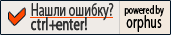
выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
К разделам: Русь | Рецензии

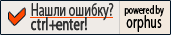 |
выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. К разделам: Русь | Рецензии |
 |
[84]
Древняя и Новая Россия, 1875, Том II, № 5.
[84] – начало страницы.
OCR Bewerr.
В числе тридцати оснований, на которых построено мое опровержение известной Норманской теории, есть следующее:
«17. Византийцы нигде не смешивают Русь с Варягами. О Варягах они упоминают только с XI века; а о народе Рось, под этим ее именем, говорят преимущественно со времени нападения ее на Константинополь в 865 году. Hо и после того они продолжают именовать Руссов Скифами, Тавроскифами, Сарматами и т.п.» (Рус. Вест. 1872. Декабрь). В другом месте у меня повторено, что «Византийцы, близко, воочию видевшие и Варягов и Русь, нигде не смешивают их и нигде не говорят о их племенном родстве».
Недавно В. Г. Васильевский, известный некоторыми прекрасными историческими монографиями, представил довольно подробное исследование о византийских Варягах под заглавием: Варяго-Русская и Варяго-Английская дружина в Константинополе ХI и XII веков (Журн.М.Н.Пр. ноябрь 1874, февраль и март 1875). В этом исследовании он старается опровергнуть общепринятое мнение, что варяжская дружина в Константинополе состояла из Скандинавов или вообще из людей Севернонемецкой ветви. Он пытается доказать, что наоборот византийские Варяги XI века были ничто иное как наша славянская Русь. Мнение совершенно новое и можно сказать неожиданное.
На чем же автор исследования основывает это открытие?
Известно, что наемная варяжская дружина впервые упоминается в византийской историографии под 1034 годом (у Кедрена). С этим известием совпадают и сказания исландских саг о подвигах норвежского принца Гаральда Гардрады и его товарищей верингов, на византийской службе. А в конце X века, по свидетельству русской летописи, Владимир отослал в Грецию часть наемной варяжской дружины. Кажется, достаточно было бы оснований полагать, что около этого времени, т.е. между 980 и 1034 гг., возникла в числе греческих войск наемная дружина Варангов, которая потом, в большем или меньшем объеме, существовала почти до конца Византийской империи.
По известию недавно изданного византийского историка Михаила Пселла в 988 г. император Василий II получил от своего зятя князя Владимира вспомогательное войско, численность которого один армянский историк (Асохикъ) определяет в 6000 человек, и которое оказало Василию много услуг в борьбе с внешними и внутренними врагами. Вот это-то вспомогательное русское войско, по мнению В. Г. Васильевскаго, получило у византийцев название Варангов, и упомянутая под 1034 г. варяжская дружина составляла только часть союзного шеститысячного русского корпуса. (Хотя по прошествии 45 лет из 6000, посланных Владимиром Василию II, едва ли многие оставались в живых и продолжали служить Византии). Но каким способом уважаемый автор пришел к такому неожиданному выводу? Как я ни старался уяснить себе цепь его посредствующих соображений, а должен признаться, что не совсем в этом успел. Повидимому, одним из главных оснований служит то, что Варанги 1034 года упоминаются в Малой Азии, а в 1033 году на границах Армении в составе византийских войск встречается и Русь. Казалось бы, что же тут особеннаго? Русские наемные отряды в те времена действительно участвовали почти во всех главнейших войнах Византии, и это нисколько не мешало существованию наемных отрядов из других национальностей, между прочим и варяжскому. А главное, совершенно не понятно следующее: русские отряды упоминаются на византийской службе уже с начала X века, византийцы так и называют их Русью, а потом то Русью, то Тавроскифами: со времени же прибытия шеститысячного войска Владимира они будто бы переименовали этих Руссов в Варангов. Но в таком случае, по крайней мере, название Русь или Тавроскифы исчезло из византийских источников? Нисколько: они по-прежнему называют их своими именами. Но почему же эти люди, не переставая быть Русью, в XI веке сделались Варангами? — спрашиваем мы. Ответа на этот вопрос не находим; но что это так сделалось, в том, по мнению автора, не может быть никакого сомнения.
Как неоспоримое доказательство он приводит следующее соображение: там, где у Пселла и Атталиоты упоминаются в описании походов и сражений Русь или Тавроскифы, там у Скилицы и Кедрена стоят Варанги, которые в этих случаях будто бы соответствують Руси Пселла. Например, говоря о походе Романа Диогена против Турок-Сельджуков, Скилица исчисляет состав его войска; император вел с собою «Македонян, Булгар, Каппадокийцев, Узов и других случайно попавших иноплеменников, а сверх того Франков и Варангов». Между тем Атталиота при описании [85] этого похода, хотя не излагает состав войска, но в течении рассказа упоминает об отрядах, собранных в задных провинциях империи и Каппадокии, о Скифах, Франках и о русском оружии, с помощию которого взят был один город. О Варангах Атталиота не упоминает; а так как Скилица, по мнению автора, заимствовал свои сведения у Атталиоты, то следовательно вместо Руси он поставил Варангов. Что Русские действительно участвовали в этом походе свидетельствует арабский писатель Ибн Атир; он говорит, что армия Диогена доходила до 200,000 и состояла из Византийцев, Франков, Руссов, Печенегов, Арабов и Грузин. Отсюда тождество Варангов и Руссов будто бы несомненно. Мы однако этого тождества не видим. Все три приведенные писателя не повторяют буквально друг друга в известии о составе Диогеновой армии; у каждого встречаются отряды, которых нет у двух других, и никто из них не перечисляет всех разноплеменных отрядов. Обратим внимание на фразу Скилицы: «и других случайно попавших иноплеменников». Ничто не мешает в числе последних разуметь и Руссов. Если же принять систему автора, то, сравнивая Атира с Скилицею, прийдется Арабов отождествить с Македонянами, а Грузин с Булгарами. Обратим также внимание на 200,000-ю численность армии: при известной системе византийских войск, каких разноплеменных отрядов не было в этой армии! И явилась она в полном составе не вдруг конечно, а уже во время похода с присоединением разных наемных союзных дружин. Точного отчета о всех ее частях невозможно и ждать от упомянутых источников. А будто Скилица свои известия почерпал только из Атталиоты, это не совсем верно: первый много заимствовал у второго, но имел конечно и другие источники.
Возьмем еще пример:
Пселл описывает свое посольство 1057 года от императора Михаила Стратиотика в лагерь победоносного узурпатора Исаака Комнена, расположенный в окрестностях Никомидии. Исаак принял его в своей палатке, окруженный близкими людьми и союзными отрядами, состоящими из итальянцев и тавроскифов, т.е. из итальянских Норманнов и Руссов: те и другие отличались светлоголубыми глазами, но первые имели бритые щеки и подбородок, а вторые небритые; те и другие держали копья и секиры. Прекрасно, кажется, чтобы можно извлечь из этого известия; оно очень просто и ясно указывает национальность союзников. Но нет, автор делает следующее соображение: так как гвардейские Варанги, стоя у престола императоров, обыкновенно изображаются с секирами, то следовательно в данном случае тавроскифы суть в то же время и Варанги; они-то и держали в руках секиру, а копья держали только итальянцы. И вот несомненное доказательство, что Варанги набирались из Руссов! За тем следуют напоминания о привычке древних галлов брить бороды, о том, что Боемунд Тарентский в начале XII века также представляется с бритою бородой, а наш Святослав у Льва Диакона изображается с голубыми глазами и редкою бородою. Что прибавляют эти напоминания к доказательствам автора? Догадку свою о варяжстве тавроскифов в данном случае он подкрепляет следующим положением. «Не должно думать, что церемониал, которым окружал себя Исаак Комнен, имел какой-либо необычайный характер, соответствующий революционному положению узурпатора и что Тавроскифы и Норманны занимали здесь чужое место только потому, что они были сообщники Исаака с самого начала его похода». И за тем приводится из того же Пселла пример одного придворного церемониала в 1042 году, в Константинополе, где упоминаются копьеносцы и люди племени тех, которые потрясают секирою на правом плече. Но для всякого постороннего наблюдателя такия натяжки слишком очевидны, и сравнение двух церемониалов одного обычного в мирное время в столице, а другого в военное время в лагере узурпатора, еще не завладевшего столицей, такое сравнение лишено аналогии. Понятно, что последний окружал себя стражею из тех иноплеменников, которые были у него под рукою и наиболее оказали ему услуг. Да простит нам автор, если мы заметим, что настоящее исследование его наполнено подобного рода сближениями и выводами и кроме того длинными отступлениями, иногда интересными в фактическом отношении, но ровно ничего не прибавляющими к его доказательствам.
Между прочим можно ли серьозно предлагать такую дилему?
«Способ доказательства, которого мы держались в этой главе, следующий:
Симмахикон (союзный корпус) = Тавроскифы, т.е., Руссы.
Симмахикон = Варяги (в Грузии и южной Италии).
Следовательно Руссы = Варяги».
Можно ли род приравнивать виду? Название союзники (симмахикон) есть общее, родовое. В той же монографии г. Васильевского это название придается вспомогательным войскам и разных других национальностей, напр. франкам, итальянцам и пр.; следовательно всех их можно отождествить с Русью?
Известно, что у византийских историков есть прямые указания на национальность Варангов и на их родину. Так Кедрен и Скилица называют Варангов «кельтическим племенем»; Вриенний считает их народом с далекого варварского острова, соседнего с океаном, и говорит, что они «издревле отличались верностью византийским императорам»; Анна Комнен выводит их с острова Фуле, который, по понятиям греков, лежал где-то далеко на севере. Все это относится к Варангам XI века, о которых собственно идет речь. С конца этого столетия дружина Варангов начинает наполняться выходцами из Англии, и Никита Ханиат, говоря о Варангах конца XII века, называет их Англичанами; а Кодин, писатель XV века, замечает, что Варанги говорили по-английски.
Интересны приемы, с помощью которых исследователь пытается устранить прямыя свидетельства источников. Вриенний, по его словам, «автор плохого неоконченного исторического сочинения»; а «варварская страна вблизи океана» это может быть страна французских Норманнов, приходивших через Южную Италию, или [86] означенное выражение может быть относится к позднейшей, т.е. англо-саксонской эпохе (хотя Вриенний прямо говорит о тех Варангах, которые отличались верностию издавна). Далее следует ссылка на то, что Вриенний пользовался сочинением Пселла, у которого нет упомянутого известия. Но бесспорно Вриенний знал очень хорошо придворных Варангов и мог указывать на их родину без всякого отношения к Пселлу, какия бы ни делал у него заимствования. Заметку Скилицы-Кедрена о кельтической национальности Варангов г. Васильевский считает просто позднейшим толкованием или глоссою, и думает, что если издать подлинный греческий текст Скилицы, то в нем, может быть, и не окажется этой заметки. Но ведь это простое предположение; как же строить на нем выводы? Относительно Анны Комнен автор также делает предположение, что вероятно она смешивала Варангов XI века с Варангами ХII-го, т.е. с наемниками из Британии; «вся ошибка (ее) состояла в том, что она не вникала в историю варяжской дружины». Насколько критично такое отношение к источникам, предоставляю судить читателям компетентным. Не забудем, что все указания греческих историков касательно происхождения Варангов согласно обращены на север и северо-запад Европы, и нигде ни единым словом они не проговорились о русском, или тавроскифском, или просто скифском их происхождении: говоря о Варангах, они нигде не указывают на Русь. Не забудем, что переход от преобладания скандинавского элемента в дружине Варангов к преобладанию англо-саксонского совершался на глазах упомянутых выше историков, и они почти не замечали его, благодаря родству этих элементов. Совсем другое дело, если бы англо-саксонская народность сменила славянскую; такой переход не мог остаться незамеченным.
Все подобные доводы хотя, по мнению г. Васильевскаго, и очень убедительны, но это пока доводы, так сказать, косвенные. Затем следуют прямые, которые должны убедить уже окончательно. Почему к последним автор относит рассказ Атталиоты о войне 1078 года, мы не понимаем. Тождество Руси и Варангов из данного примера также не вытекает, как и из всех предыдущих: Варанги и Русь участвовали в этом походе и сражались рядом, нисколько не мешая каждой части оставаться при своей национальности. Нам кажется важнее последующее указание на несколько хризовулов или императорских грамот XI века.
В первой грамоте говорится об освобождении одного монастыря от сборов в пользу «Варангов Роси или Саракин или Франков», в другой об освобождении одного дома от постоя военных людей «еще же Роси Варангов или Кулпингов или Франков или Булгаров или Саракин». В третьей, составляющей подтверждение предыдущей, видим буквальное повторение тех же слов. В четвертой говорится тоже об освобождении одного монастыря от постоя военных людей, «а также Росов Варангов Кулпингов Инглингов Франков Немцев Булгар Саракин Алан Обезов» и проч.
На том основании, что Рось в грамотах стоит везде рядом с Варангами и между ними нет частицы или, автор заключает, будто эти два названия составляют одно и их надобно переводить словом Варяго-Руссы. Но откуда следует, что частица или непременно должна начинаться здесь со второго же слова, а не с третьяго? Голословная ссылка на Василики слишком недостаточна. Если Русь и Варанги упоминаются рядом, это значит только то, что русская и варяжская дружины в данную эпоху составляли наиболее постоянные, наиболее видные иноплеменные отряды в греческих войсках. Обратим также внимание на перемену порядка: в первой грамоте стоят сначала Варанги, потом Рось, а во второй, третьей и четвертой, наоборот сначала Рось, потом Варанги. По мнению автора это «ровно ничего не значит». Напротив, это прямо означает, что у Греков не было определенного термина Варанго-Россы; иначе он везде употреблялся бы одинаково. Наконец, четвертая грамота совершенно опровергает мнение автора: обыкновенно несклоняемое Рось здесь подвергнуто склонению на ряду с прочими именами; сказано: Росов, Варангов и т.д. Автор исследования поступает в этом случае уже слишком смело: он утверждает, что тут надобно переводить: русских Варягов, и ссылается на фразу Ксенофонта, у которого сказано «пельтасты Эллины» вместо «эллинские пельтасты»; кроме различия эпох для языка, этот пример неаналогичен еще и потому, что тут стоят не два народных названия, а народное с нарицательным. Вот к каким натяжкам приходит наш исследователь, вообще очень приверженный к соображениям и доказательствам филологического свойства.
И так, после исследования г. Васильевскаго, по-видимому столь тщательного, столь обильного всякого рода ссылками и цитатами, мы можем еще с большею уверенностью чем прежде повторить, что греки, хорошо знавшие Русь и Варягов, не смешивают их и нигде не называют их людьми одного племени. Замечательно, что наше положение подтверждается и всеми свидетельствами, которые исследователь приводит из других источников, каковы скандинавские саги и латинские летописцы, хотя автор и старается объяснять их по своему.
Вообще, те места источников, которыя не подходят к его доказательствам, автор объясняет ошибками, недоразумениями и позднейшими искажениями, но в то же время к другим относится с чрезвычайной доверчивостию и обходится с ними как с математическими данными. Например, в одной грузинской хронике под 1047 годом говорится о 3,000-м варяжском вспомогательном войске. Исследователь принимает эту цифру за несомненную; выводит из нее, что здесь находилась половина шести тысячного русского союзного войска 988 года, и полагает, что остальные 3,000 были в это время в Южной Италии. Он несколько раз вооружается против мнения, что наемные Варанги составляли исключительно придворный или лейб-гвардейский отряд в Константинополе, и утверждает, что были варяжские отряды и в полевых войсках. Но, сколько нам известно, никто и не настаивал на упомянутой исключительности.
Вот еще пример смелости и поспешности в деле [87] выводов и соображений. Варанги конечно были католики; в Константинополе существовала особая церковь Варяжской Богородицы, которая (по словам французского консула Белэна) находилась около храма св. Софии. Г. Васильевский на основании имени (т.е. «Варяжская Богородица») и местоположеиия заключает, что то была не латинская, а греческая, православная, т.е. просто русская церковь. Неужели этих оснований достаточно для подобного вывода? Почему тут название должно означать православный храм, мы не понимаем; а что придворная дружина Варангов пользовалась привилегией иметь особую церковь или часовню по близости своего местослужения, мы находим естественным. К этому прибавим следующее. По словам самого автора, более достоверные источники о построении Варяжского храма не восходят ранее второй половины XII века. Но именно к тому же времени относится известие о существовании русского храма в Константинополе в честь Бориса и Глеба, и не подле Софии, а на другой стороне Золотого Рога, т.е. в Галате. Это известие принадлежит новогородскому архиепископу Антонию. (См. его Путешествие в Царьград, изданное П. И. Саваитовым, стр. 47 и 159).
Наконец, главный вывод г. Васильевского будто Руссы, приходившие в XI веке в Византию, сами называли себя там Варягами, — этот вывод находится в явном противоречии со всеми несомненными данными. Известно, что наша летопись собственно в одной басне о призвании Варягов смешивает их с Русью; но, повествуя о событиях XI-го, Х-го и даже конца IХ-го века, различает Русь от Варягов. Это различие подтверждается и таким оффициальным документом как Русская Правда, которая относится к Варягам, как к иноплеменникам.
В начале своего исследования г. Васильевский скромно заявляет, что он не считает себя компетентным в вопросах русской истории настолько, чтобы вмешиваться в спор, снова поднятый мною, и что его выводы «могут быть обращены в свою пользу как норманистами, так и с таким же правом противниками их». Но потом чем далее, тем автор становится более и более компетентным, и заключает свое исследование следующими словами: «Мы думаем, что скандинавская теория происхождения Русского государства до сих пор остается непоколебленною, и что те, которые пытались поколебать ее, потерпели заведомую неудачу. Она покоится, главным образом, на двух столпах: на именах Русских князей и на названиях Днепровских порогов, которые все-таки остаются неславянскими, не смотря на разныя попытки ненаучной филологии объяснить их по славянски. С наукою мы не хотим быть в противоречии, и думаем не находимся». Следовательно, норманизм приобрел себе нового союзника, и в лице его заявляет о своей решительной победе. Это показывает только какие бывают радикально противоположныя мнения об одном и том же предмете. Противники говорят, что мы потерпели заведомую неудачу; а мы позволяем себе думать, что каждое новое возражение со стороны норманизма дает нам возможность более и более раскрывать его несостоятельность, за что приносим благодарность всем бравшим на себя труд возражать нам, в том числе и В. Г. Васильевскому. Разногласие в данном вопросе нисколько не мешает нам отдавать должную справедливость его ученым достоинствам и его историческим трудам вообще. Когда в конце 1872 года на страницах Журнала Минист. Народн. Просв. появилось его исследование «Византия и Печенеги», мы приветствовали автора, как русского ученаго, который может уяснить многое в отношениях Византии к миру Русско-Славянскому (см. «Рус. Арх.» 1873 № 3). При этом мы только заметили некоторое пристрастие к этимологическим соображениям и наклонность строить на них исторические выводы, иногда слишком смелые. В последнем исследовании наклонность эта проявляется еще в более сильной степени. А между тем, независимо от темных и разноречивых текстов, история народов и обществ имеет свои законы, которые действуют непреложно и которые достойны тщательного изучения и внимания. Обыкновенно там, где этимологические выводы противоречат историческому ходу событий, при более внимательном и многостороннем рассмотрении, эти выводы оказываются неверны, и указывают только на несовершенство филологических приемов.
Известно, что главный и постоянный враг истории как науки — это элемент вымысла, басни, с которым ей приходится бороться от самых древнейших до самых новейших времен. Этот элемент так переплетается с источниками собственно историческими, что часто нужны величайшия усилия, чтобы выделить его. Но кроме вымысла у исторической науки есть и другие неприятели, например недостаток свидетельств, недостаток безпристрастия и проч. А в данном вопросе, как мы видим, ей приходится бороться и с ошибочными филологическими приемами.
Филология стремится стать наукою точною; но до полной точности ей еще очень далеко; приблизительно верных выводов она может достигать только там, где имеет для того достаточный материал. Но во многих случаях, особенно относящихся к векам прошедшим, она бессильна представить удовлетворительныя объяснения, хотя это и не избавляет ее от обязанности делать к тому попытки. Движение ее в этом отношении находится в тесной связи с движением вообще исторической науки, которая, как известно, имеет в виду всю сложность явлений. Нет сомнения, что наука славянорусской филологии сделала уже много успехов; но как она еще слаба при объяснении самой истории языка, лучше всего показывает следующее. Перед нами великорусское и малорусское наречия в полном своем составе; мы имеем обильные письменные памятники, которые восходят до X столетия, и однако русская филология не объяснила нам доселе, откуда взялось малорусское наречие, когда оно сложилось, в каких отношениях было к ветви великорусской и т.д. Есть по этому поводу некоторыя попытки, некоторые мнения, но до решения вопроса еще очень далеко. Это решение зависит от более тщательной разработки древнейшей русской истории. Точно также филологическая наука еще не в состоянии определить, где кончается [88] церковно-славянский язык и начинается собственно русский в древних памятниках нашей письменности. Если после стольких трудов, посвященных вопросу, в каком славянском наречии сделан был перевод священного писания, все еще продолжаются о том споры записных филологов, то ясно, как еще слаба филологическая наука по отношению к истории языка. И этот вопрос не может быть решен без помощи более точных исследований по древней истории Славян.*) Часто еще слабее оказывается филология там, где она пытается разъяснять географические, народныя и личныя имена, дошедшия до нас от веков давно минувших. Тут является обширное поприще для всякого рода догадок, предположений, вероятностей и проч. и в этих случаях только те догадки получают вес, которые могут опереться на историю. Считаю не лишним напомнить о всех этих истинах в виду усилий норманизма: за недостатком исторических данных на своей стороне искать поддержки преимущественно в области филологии.
Г. Васильевский, столь пристрастный к этимологическим доводам, говорит, что скандинавская теория покоится главным образом на двух столпах: на именах Русских князей и на именах Днепровских порогов. Не знаю, каких князей он тут разумеет. Имена наших первых исторических князей, т.е. Олега и Игоря, несомненно туземные; мои доводы в этом отношении остаются пока никем неопровергнуты. Это имена почти исключитсльно русские (Олега встречаем еще только у литовцев в сложных именах Олегерд и Ольгимунд); тогда как между историческими именами Скандинавов их, можно сказать, совсем нет. И наоборот, наиболее употребительные историческия имена скандинавских князей, каковы Гаральд, Еймунд, Олаф и т.п., совсем не встречаются у наших князей. Что же касается до имен дружинников, приведенных в договорах Олега и Игоря, то это отрывки из русской ономастики языческого периода; часть их встречается потом рядом с христианскими именами в XI, XII и даже ХIII веках в разных сторонах России, и только несовершенство филологических приемов может объяснять их исключительно скандинавским племенем. Вообще, этимология личных имен по своей сложности, по разнообразным отношениям и влияниям, политическим и этнографическим, может составить особый отдел сравнительно-исторической филологии, и приступать к решению вопросов с такими нехитрыми приемами, как это доселе делалось, несогласно с настоящими требованиями науки.
Если в упомянутых договорах нашлось бы два, три имени действительно варяжских, то это подтвердило бы только мою мысль, что, начиная с Олега, в Новгороде содержался наемный варяжский гарнизон и что некоторые знатные люди из Варягов уже с того времени могли появляться в самой киевской дружине.
О названиях Днепровских порогов мы неоднократно говорили и утверждали, что только выходившия из предвзятой мысли толкования могли объяснять так называемые русские имена исключительно скандинавскими языками. Повторим вкратце те выводы, к которым мы в своих прежних статьях постепенно пришли по этому отделу варяжского вопроса:
1. Русские названия суть основные, первоначальные, восходящие к глубокой древности. В некоторых из них можно видеть остаток еще скифской эпохи.
2. Славянские названия суть варианты русских и принадлежат наречию древнеболгарскому; так как к югу от Полян в V—X вв. жили племена болгарския (Угличи и др.).
3. Названия порогов дошли до нас в весьма искаженной передаче. У нас нет средств проверить их даже самим Константином Б., потому что он приводит их только один раз. Сравнение с другими географическими именами в его сочинении, а также и самые славянские варианты, подтверждают мысль об этом искажении. Кроме того Константин в некоторых случаях перемешал соответствие славянских вариантов с русскими.
4. Первоначальный смысл некоторых русских названий утратился, и Константин приводит собственно их позднейшее осмысление. Напр. название первого порога Есупи (которое я позволяю себе сближать с скифским Exampaios) по созвучию осмыслялось словом Неспи; но последнее как противное духу языка не сделалось собственным именем, а отразилось в более позднем названии Будило.
5. Старания норманистов объяснять русския названия исключительно скандинавскими языками сопровождаются всевозможными натяжками. Мы думаем, что с меньшими натяжками можно объяснять их языками славянскими, но и то собственно некоторыя из них, потому что другия, вследствие утраты слова из народного употребления, или потери своего смысла, или по крайнему искажению, пока не поддаются объяснениям (Есупиа, Аифар и Леанти).
6. Те объяснения славянорусского языка, которыя мы предлагали, не считаем окончательными, а только примерными, ибо отвергаем возможность делать точные выводы там, где нет ни точных данных, ни средств определить степень их неточности. Вообще географическия названия какой-либо местности часто бывают необъяснимы из языка того народа, который употребляет их в данную минуту; тут всегда возможны постепенные наслоения, позднейшие осмысления и т.п.**) [89]
7. Что действительно в южной России существовали когда-то при некоторых русских названиях варианты славянские, указывает и наша летопись в известных словах: «И стояша на месте, нарицаемом Ерел, его же Русь зовет Угол». И в данномь случае русское название более древне, чем славянское, потому что первое утратилось, а второе осталось до ныне (р. Орел).
Эти выводы наши остаются пока во всей силе; хотя норманисты и продолжают настаивать на скандинавских словопроизводствах. Всякая новая попытка их подкрепить эти словопроизводства порождает только новые и новые натяжки. Примером тому может служить последнее по времени, исследование О названиях Днепровских порогов у Константина Багрянороднаго, принадлежащее В. Ф. Миллеру (Древности, изд. Моск. Археолог. Об. 1875. Вып. 1). Этот молодой и многообещающий ученый задался целью доказать, что русские названия порогов «могут быть объясняемы только из древне-северного (скандинавскаго) языка». И что-же?
Первое название, т.е. Есупи, он объясняет все-таки повелительным наклонением скандинавского языка еisofa, хотя и согласен, что славянского Неспи не существовало. Он полагает, что уже в то время существовало название Будило и Константин спутал объяснение этого названия с самим названием, да притом еще спутал два разные порога. И так к прежним толкованиям автор присоединил нечто из наших мнений, а также свои собственные догадки, и в результате мы получаем порядочную путаницу, из которой трудно извлечь что-либо положительное.
Второй порог, Ульворси, г. Миллер, подобно предшественникам его на этом поприще, превращает в скандинавское holmfors; ибо только при таком превращении у этого названия получается одинаковый смысл с стоящим против него славянским Островунипраг. Что русское хольм обратилось у Константина в уль по-прежнему доказывается «непривычным» греческим ухом, «вероятным» смешением аспирантов, переходом таких-то звуков в такие-то, и пр. Одним словом неверная передача этого названия будто бы совершилась по известным фонетическим законам. А между тем все подобныя ссылки на законы языка уничтожаются следующим соображением. Иностранные слова действительно произносятся на свой лад, но это бывает обыкновенно в том случае, когда народ усваивает себе или часто употребляет какое-либо чужое слово. Но когда образованный человек записывает иностранное название, то он старается передать его как можно ближе к настоящему произношению, а не переделывать его непременно в духе своего родного языка. Доказательством тому служит тот же Константин, который передает в своих сочинениях множество варварских названий всякого рода; причем часто сохраняет их произношения, совершенно не соответствующее духу греческого языка, а иногда сообщает их в очень искаженном виде. Вообще подобные ошибки и неточности подвести под известные законы и с помощью их восстановить точные данныя по большей части бывает невозможно. Например, на основании каких фонетических законов русский Любеч у Константина обратился в Телюча? и т.п. Это-то столь простое соображение норманисты упускают из виду.
Третий порог, Геландри, по толкованию г. Миллера есть собственно сравнительная степень от скандинавского причастия настоящего времени gellandi звенящий, а может быть звук р тут только послышался Константину. Славянским же языком нельзя объяснять это название, потому что у славян будто бы нет слов начинающихся с ге и по славянской фонетике г в таком случае должно перейти в ж. (Однако на основании какого же фонетического закона в одном из древнейших наших памятников, в Повести Временных Лет, мы постоянно читаем «генварь» вместо «январь»?) Нет будто бы у славян и слов, оканчивающихся на андр. Остановимся на этих замечаниях г. Миллера. Во-первых, он и название данного порога исправляет по-своему, т.е. выбрасывает звук р и удвоивает л; а иначе не совсем удобно предположить собственное имя в сравнительной степени. Но мы также, хотя и примерно, предлагали только маленькую поправку: вместо Геландри читать Гуландри и это слово совершенно подходило бы к толкованию Константина, по которому оно означает шум или гул. Во вторых, не совсем верно будто в славянорусском языке нет и не могло быть слов, оканчивающихся на андр. Мы уже указывали некоторые примеры (глухандря, слепандря и т.п.; прибавим тундра, форма вероятно сокращенная и притом своя, а не чужая, хандра и пр.); они представляют остаток какой-то весьма древней формы, для нас уже утратившей свой граматический смысл. (Впрочем по мнению филологов норманнской школы, кажется подобныя слова стоят вне всяких законов славянорусского языка?) В третьих, молодой ученый сам не замечает своих противоречий. В конце исследования он доказывает, что названия порогов передавал Константину Славянин, а не Варяг и что этот предполагаемый Славянин тоже приложил свою долю участия в искажении русских названий. Но в таком случае откуда же получилось Геландри, так как по славянской фонетике, упомянутой выше, он должен был сказать Желандри?
Затем русское Аифар, соответствующее славянскому Неясыть (пеликан), по новой догадке, есть ничто иное как скандинавское название гаги aedr; ибо пеликаны в Скандинавии не водятся и там нет для них названия. Но аедр довольно разнится от аифар; да и с какой стати было бы называть пеликана гагою? Относительно Варуфорос повторяется тоже толкование, какое было и прежде. Но он по нашему мнению есть вариант славянского Веручи или Вручий, т.е. кипучий, и происходит от того же глагола врети или варити. Подтверждением нашего мнения служит встречающееся [90] по летописям название одного города в южной Руси, Варуч или Баруч (кстати, норманисты читают Баруфорос, объясняя его скандинавскими bara — волна и fors — водопад). Точно также, соответственно славянскому названию порога, был и город Вручий. Между тем у Константина в параллель с Веручи стоит русское Леанти, слово совершенно непонятное; г. Миллер объясняет его скандинавским hlaeandi, что значит: смеющийся. Объяснение новое и пожалуй довольно остроумное, но отнюдь невероятное.
Русское Струвун автор считает темным, и не останавливается ни на каком объяснении. Тем не менее он отрицает наше предположение, что это название соответствует славянскому Островун-порог. Он ссылается на то, что у Константина ударение стоит на первом слоге, струвун, а по славянорусски было бы струвун, чему примером служат Перун, бегун и т.п. Но верно ли поставлено ударение у Константина? А также верно ли, что у славян ударение в данном случае непременно должно стоять на последнем слоге? Ссылка на Перуна неудачна, ибо существовало и произношение пёрун. (Кстати, вот несомненно славянское имя, однако попробуйте объяснить его значение из одного славянского языка). Я делал предположение, что самое слово остров в древнейшей форме вероятно было струв, подобно формам Вручий и Овручь. Г. Миллер голословно отвергает это предположение. Оставляя за ним вероятность, не настаиваем на том, чтобы оно служило окончательным объяснением. Возможно и то, что Струвун, имея с «остров» общий корень стры (откуда и струя, и стремя) означал собственно стремнистый или стремительный, каковое название очень идет к порогу.
Итак, новая попытка, с помощью разных вероятно и по-видимому, толковать русския названия из скандинавского языка, кажется, достаточно говорит в пользу наших выводов. Можно ли считать сколько-нибудь удовлетворительными объяснения, по которым, при всех натяжках, в одном случае получаем повелительное наклонение, в другом сравнительную степень, в третьем холм вместо ул, в четвертом гагу вместо пеликана, в пятом «смеющийся» вместо «кипящий», в шестом знак вопроса? И на сколько все подобныя толкования правдоподобнее или научнее тех толкований, которыя предлагает г. Юргевич, объясняющий русския названия порогов венгерским языком? (Зап. Од. Об. И. и Д. т. VI).
Тем не менее автор заканчивает свое рассуждение следующими словами.
«Рассматривая строго-филологически русские названия порогов, мы нашли, что язык, который Константин Багрянородный называет русским, не pyccкий, a древне-северный (скандинавский)».
Молодому и конечно еще неопытному исследователю извинительна такая уверенность в своих строго-филологических приемах. Впоследствии более разностороннее обсуждение предмета и большее углубление в историко-этнографические вопросы могут поколебать эту уверенность.
*) Какие например могут быт точные выводы о древнеболгарском наречии, когда самих Болгар записные филологи считают Финнской или Турецкой ордой, отстаивая теорию, основанную на одних недоразумениях. Они, например, хватаются за несколько непонятных фраз в одном славянском хронографе, Бог знает на каком основании предполагая, что эти фразы суть остаток настоящого болгарского языка.
**) Просим обратить внимание на последния два вывода (5 и 6); так как норманисты приписывают мне попытку объяснить все из славянского языка. Между тем я именно указывал, что мы имеем много слов и названий, издревне принадлежавших славянам, и никак не можем уяснить их смысл из одного славянского языка; например: Днепр, Бог, Хорс, Мокош и пр. и пр. И притом это не какие-нибудь искаженные слова, которых мы не в состоянии проверить. Не надобно еще упускать из виду, что и доселе существуют многие славянские слова, которых первоначальный смысл может быть объяснен с помощью Готских и вообще древненемецких памятников письменности; что весьма естественно по родству корней.
Написать нам: halgar@xlegio.ru